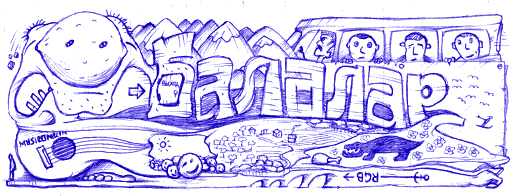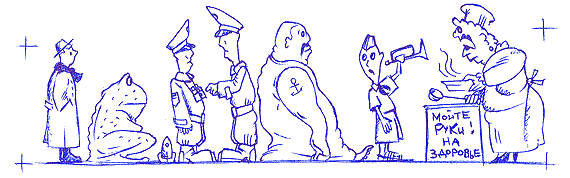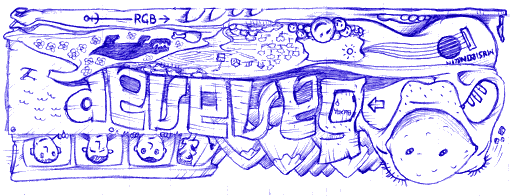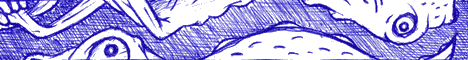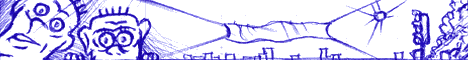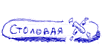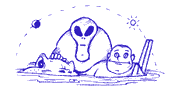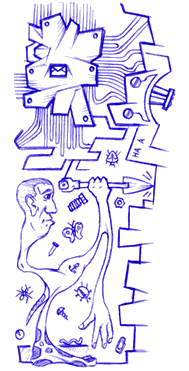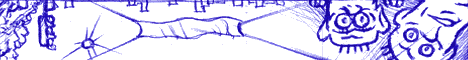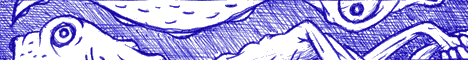|
Утопии осуществимы,
но под обязательным условием их искажения.
Н. Бердяев
***
Не секрет, что человеческой природе всегда было свойственно чувство глубокой и навязчивой неудовлетворенности от того мира, в котором приходится жить. Очень уж любим мы похулить и покритиковать окружающую нас действительность. И мечты уже рисуют нам рай на земле, где все счастливы и беззаботны, где зло наказывается добром, нет лжи, лицемерия и власти денег, где все равны между собой и все свободны… Но всегда забываем одну старую истину: «Мечтай осторожно — мечты иногда сбываются».
На протяжении всей мировой истории величайшие умы бились над загадкой идеального общества. Человек, ощутив себя высшим существом и властителем природы, счел возможным (пусть пока лишь теоретически) создание совершенного государства. Изначально это были легенды о некоем «Золотом веке», временах, когда человечество жило в достатке и радости. О таких безоблачных временах вспоминает древнегреческий поэт Гесиод (8–7 вв. до н. э.) в поэме «Труды и дни»:
Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья…
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность. <…>
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,
Сладко вкушали покой безопасно живущие люди.
Но эволюция, которую с тех пор претерпело человечество, шла к худшему, и в современной Гесиоду действительности не осталось ничего от "золотых" времен. Порочное человечество утратило все, что было дано ему богами. Картина очень схожая с ветхозаветной притчей о Потеряном Рае. Первые люди, имея все, захотели большего, захотели высшего знания и независимости от Бога. В принципе, нормальные человеческие желания, тем не менее Рай на земле был утерян. Но навсегда ли? Сколько еще предстоит человечеству отвечать за ошибки Адама и Евы, страдать от несправедливости этого мира и ждать возвращения в Эдем? А может не стоит ждать помощи от Вышнего и еще раз показать ему свою независимость, построив Рай своими руками?
Проекты упорядоченного человеческого общежития отражаются уже в трактатах Платона (428–348 до н. э.) «Государство» и «Законы». В его теориях идеальное государство возникает как общество трех социальных групп: правителей (философов), стратегов (воинов) и производителей (земледельцев и ремесленников). У философов должна преобладать разумная часть души, у воинов - воля и благородная страсть, у производителей - чувственность и влечения, которые должны быть управляемыми, умеренными. Все слои четко разграничены, браки возможны только со своими, все женщины слоя принадлежат всем мужчинам этого слоя. Для подавления личности Платон предлагал отрывать детей от родителей, воспитывать их с ориентацией на защиту целостности государства, использовать систему доносов и ввести цензуру на искусство — оставляя лишь стихи, воспевающие героев и тому подобное. Очевидно, что модель идеального государства Платона ни что иное как модель тоталитарного государства. Не очень-то похоже на рай. И все же это были первые шаги в развитии жанра, окончательно сформировавшегося в эпоху Возрождения и получившего название Утопия («u» — «не» и «topos» — «место», то есть «место, которого нет»), от одноименной книги английского мыслителя-гуманиста Томаса Мора (1478-1535). Сам жанр утопии предполагает развернутое описание общественной, государственной и частной жизни воображаемого мира, который отличается идеальным политическим укладом и всеобщей социальной справедливостью.
Расцвет утопии в эпоху Возрождения связан с особенностями ренессансного мироощущения. Европа обратилась к культурным ценностям Античности и тем самым освободилась от давления религии. В философии, в науке, в этических, политических и эстетических учениях этого периода главным объектом внимания оказался человек, а не божество, стоящее над ним, как это было раньше. Идея загробного блаженства, характерная для средневековья, уступила место попыткам моделирования более совершенных форм земного мироустройства. Однако реальное положение человека в европейских странах было весьма далеким от того, которого, по мнению мыслителей-гуманистов, он заслуживал. Поэтому, как правило, в утопиях этой эпохи сочетаются резкая критика современных общественных порядков и идеальные картины "земного рая". Кроме того, эпоха Великих географических открытий порождает надежду, что где-то на неведомых европейцам землях жизнь людей уже достигла абсолютного совершенства. Теперь уже не надо обращаться к далекому «Золотому веку», можно верить, что Рай на земле существует, и совсем скоро его отметят на географических картах.
«Утопия» Томаса Мора представляет собой диалог автора и путешественника Рафаила Гитлодея. Первая часть их беседы посвящена сатирическому освещению современной Англии. Объектом сатиры писателя стала политика "огораживания", роскошь королевского двора, военная политика и система уголовных наказаний. Во второй части Мор воспроизводит рассказ Гитлодея о том, как тот, во время своих странствий в западном полушарии, случайно попал на остров, поразивший его своим общественным устройством. Это был остров Утопия.
Большое внимание в Утопии уделяется организации труда и всеобщему равенству. Живут утопийцы в великолепных городах, напоминающих сады, правда, их жилища как две капли воды похожи друг на друга, но это связано с тем, что в обществе равных никто не имеет права жить в лучшем доме. Здесь процветает эгалитаризм, нет частной собственности, общими являются не только природные богатства, но и вся продукция общественного производства, которая так же поступает в распоряжение всех граждан. Государство в лице сената производит учет и распределение продуктов потребления в интересах всего общества. Поскольку в Утопии все население занято общественно полезным трудом, в ней нет недостатка в продуктах, необходимых "для жизни и ее удобств". В Утопии каждый изучает какое-либо ремесло как специальное, а иногда и несколько ремесел, таким образом здесь нет паразитов. Сам труд в Утопии не является тяжким бременем, рабочий день ограничен шестью часами, а самая грязная и трудоемкая работа выполняется рабами. Отдыхают утопийцы занимаясь "благородными науками". На острове Утопия нет денег, денежные отношения заменены здесь общественным распределением материальных благ. Из золота утопийцы делают ночные горшки и цепи для преступников, так что золотые украшения не предмет зависти, а символ позора.
Основной хозяйственной единицей Утопии является семья, однако формируется она не только по принципу родства. Главный признак утопийской семьи заключается в ее профессиональной принадлежности к определенному виду ремесла. Ремеслом занимаются все — и мужчины, и женщины, с той лишь разницей, что женщины имеют более легкие занятия. Вовлечение женщин в общественное производство наравне с мужчинами, несомненно, свидетельство высокой прогрессивности утопийцев.
Итак, по мысли Мора, Утопия представляет собой единую бесклассовую коммуну, состоящую из свободного от эксплуатации большинства. Однако факт существования рабства в Утопии делает это общество недостаточно справедливым. Кроме того у утопийцев нет различия в одежде. Несомненно, когда все одеты одинаково, отпадают зависть и недовольство, а пошив одинаковой одежды сокращает затраты рабочего времени, но ведь это еще и способ борьбы с индивидуальностью личности. Впрочем личность в Утопии, согласно жанру, всецело растворяется в идее общественного блага.
Последователь Мора, итальянский философ Томмазо Кампанелла (1568-1639), в вопросе подавления личности пошел еще дальше. В книге «Город Солнца» он изображает сообщество людей, которые во имя общественного равновесия отреклись от собственного Я и слились в единую коммуну (о Городе Солнца, как о реально существующем острове в Индийском океане, рассказывает генуэзский мореплаватель). У соляриев (жителей Города Солнца) нет ничего своего: ни жилищ, ни жен, ни детей. Каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в какой комнате жить; деторождение здесь производится тоже лишь с разрешения начальства, которое решает, какая пара оставит наилучшее потомство; вскормленный грудью младенец сразу же передается на воспитание специальным должностным лицам. Самоотречение соляриев доходит до такой степени, что приговоренный к смерти в Городе Солнца после долгих уговоров добровольно дает согласие на казнь.
Пламенный католик, доминиканский монах Кампанелла строит идеологическое единство Города Солнца на христианской религии, однако очищенной от злоупотреблений. Требования к поэтам в Городе Солнца, как и у Платона, весьма суровы. «Имени поэта недостоин тот, кто занимается ложными вымыслами», назначение поэзии — воспевать славных полководцев и поучать.
Политическая система Города Солнца создана Кампанеллой под влиянием современной ему действительности. Он принимал близко к сердцу беды угнетенной Италии и даже готовил восстание, целью которого было освобождение Южной Италии из под гнета испанцев и установление там республики, «где все будут жить общиной». Но восстание было предано, Кампанелла 27 лет провел в тюрьмах, где и создал проект своей утопии.
Линию утопического коммунизма проповедовал и немецкий революционер Томас Мюнцеp (ок. 1490-1525). Он считал, что революция и насильственное свержение власти единственный путь к благому (естественно, эгалитарному) обществу. Интересно, что в отличие от большинства утопистов, Мюнцер считал, что такое общество можно построить в реальной жизни.
В связи с упомянутыми выше утопистами эпохи Возрождения стоит заметить, что все они: и Томас Мор, и Кампанелла, и Мюнцер, были весьма набожными христианами, противниками реформации, и это не случайно. Христианство всегда сопровождалось утопиями, проповедями о конце света и наступлении тысячелетнего Царства Божия, верой в объединение Бога и человека против Антихриста. Религия стремится внедрить в сердца людей свой идеал — такова ее главная задача. Утописты считали, что создание стабильного и упорядоченного общества возможно только при абсолютной вере его граждан в непогрешимого и всемогущего идола. Будь то Старший Брат, Тэйлор или Господь Бог. «Дивный новый мир» приобретал отчетливые очертания монастыря.
Монастырь совершенно иного рода описал Франсуа Рабле (1494–1553) в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Главный и единственный принцип Телемской обители (телема в переводе с греческого — желание) гласит: «Делай, что хочешь» - девиз, прямо противоречащий законам коммунистических утопий. Рабле видел счастье жителей Телема именно в свободе и считал, что человек, имеющий свободу выбора и находящийся в благоприятной для него среде, не употребит ее во зло, «ибо люди свободные, благородные, образованные, живущие в приличном обществе, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, которые толкают их на добродетельные поступки и отвлекают от порока: этот инстинкт называется честью. Но когда те же люди подавлены и порабощены низким насилием и принуждением, они направляют то самое благородное рвение, которое раньше свободно влекло их к добродетели, на свержение и сокрушение своего рабства».
Здесь «в пользу свободы вопиет всякое право» и нет тому никакой меры. Вокруг Телемской обители нет стен, за которыми «и зависть, и ропот, и взаимные козни», покинуть обитель имеет право всякий, кому заблагорассудится, а жизнь здесь протекает не зная часов и распорядков. Нет в Телеме и руководящих постов, основатель аббатства Брат Жан честно признается: «Как я буду управлять другими, когда я сам не умею управлять собой?».
Феодальному средневековью было незнакомо понятие свободы. Это время свирепствования жесткого принуждения и насилия. Рабле отвергал такие общественные категории и боролся за свободу и уважение человека, утверждая, что самое ценное, что есть на свете — это личность.
Но как бы не были прекрасны и радужны идеи Рабле, он прекрасно сознавал, что это не более чем проекты, и воплотить их в жизнь невозможно. На тех же позициях находились и все остальные авторы утопий. Основополагающая идея любой утопии — всеобщее равенство, но возможно ли оно? Захотят ли люди по доброй воле одинаково думать, одеваться, одинаково питаться, жить в одинаковых домах? Утописты уповают на человеческий разум. Но только ли разум определяет человеческое поведение? А как же непредсказуемая и неповторимая человеческая душа?! Согласится ли она на такое равенство, захочет ли лишить себя неповторимости? Автор утопии как бы заявляет: «Я не настолько слеп, чтобы полагать написанное правдой; не так глуп, чтобы побуждать людей воспроизвести это в реальности». Идея "золотого века", "рая на земле" прекрасна именно в своей невоплотимости. «…Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю!) — ну, а я все-таки буду проповедовать, — говорит герой рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека», увидевший во сне идеальную страну. — А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться». Известный исследователь утопий Карл Манхейм говорил, что утопия - это категория, описывающая «всякое мышление, стимулируемое не реалиями, а моделями и символами» («Идеология и утопия»). Об утопии можно мечтать, можно ее описывать и играть с ней, но нельзя верить в ее осуществление, осуществленная утопия разрушает сама себя.
Факт. Известный советский китаевед Лев Петрович Делюсин рассмотрел так называемую утопию тайпинов. В XIX веке в Китае были утописты — тайпины, они совершили тайпинскую революцию, взяли столицу, установили утопический порядок, однако вскоре-же забыли лежащие в основе движения идеалы высоко-ханьской утопии и создали такую систему, которая хорошо кормила армию. Шла гражданская война, освободительное движение против маньчжуров; нужно было, чтобы армия кормилась и могла воевать. Поэтому они без шума вернули помещикам землю, обложили данью крестьян, создали строгую иерархию, в которой каждый занимал свое место, где солдат был выше, а крестьянин ниже - обыкновенный жесткий порядок, прагматичный и хорошо продуманный.
Но было бы неверно утверждать, что писатели-утописты ставили своей целью установление политического террора, что именно они вымостили дорогу к бедам ХХ века, к гибели миллионов людей. Утопия – это литературный жанр, фантазия на тему лучшей жизни, полет мысли, а за мысли не судят.
Читатель хочет верить в невозможное, в то, чего с ним никогда не случалось и не случится. Возьмем, например, роман: он строится на ирреальных совпадениях, которых в жизни практически не бывает, — но, подчиняясь обаянию искусства, человек начинает верить: небывалое возможно. Наступит иное будущее. Отсюда тонкое замечание Бахтина: роман соприроден будущему. У романа и утопии одна природа - и здесь и там дается фора фантазии, а без фантазии, как известно, невозможен прогресс, фантазия и стремление к идеалу ведет человечество в будущее. Шиллер говорил про это так: «Каждая наука имеет своего Бога, который одновременно является ее целью. Для механики — это вечный двигатель... Для химии — камень мудрости. Философия ищет первопринцип. Математика — квадратуру круга... Политический деятель — совершенное государство, вечный мир... Речь идет об идеалах, которые недостижимы и потому обманчивы, но их можно рассматривать как необходимую целевую проекцию». Оскар Уайльд добавлял: «На карту земли, на которой не обозначена утопия, не стоит смотреть, так как эта карта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество». Всякий выраженный, описанный идеал есть утопия; отказаться от нее — значит отказаться от идеала. А человечеству надо стремиться к идеалу, иначе оно замрет и выродится. Если нет стремления к идеалу, зачем тогда существование? Если все проблемы решены, если в обществе не возникает никаких конфликтов, какая сила заставляет это общество развиваться? Зачем наука, зачем искусство, зачем духовный поиск, если человек уже достиг всего, чего хотел? Как бы не возвышал себя человек над природой, он все же создан ею, а законы природы таковы, что все живое должно двигаться, развиваться и искать. Искать Эльдорадо, Атлантиду, Утопию — стремиться к цели, которую нельзя достичь, а значит никогда не остановиться. Хотим мы того или нет, утопия присутствует в нашей жизни как взгляд в лучшее будущее или память о лучшем прошлом — без этого человек перестает быть человеком (стоит вспомнить «1984»).
Еще одна характерная черта утопии — ее условность. Например «Утопия» Мора, ее идеальный мир максимально овнешнен: детально оговорены церемонии брака, но нигде не упоминается о любви, провозглашается всеобщее рабство, но философы не отрабатывают повинность в поле, а грязную работу выполняют рабы, утопийцы лишены внутреннего, духовного пространства, их жизнь фасадная и напоминает театральное действо. Мор описывает лишь "жесткий каркас" идеального мироустройства и не вдается в подробности. В утопиях никогда не описывается внутренний мир героя. У Мора действуют либо вообще утопийцы, либо безличные пары: муж и жена, отец и сын. Человек для утопистов — некое абстрактное понятие, лишенное каких-либо внутренних противоречий. Отчетливо представлены лишь герои-наблюдатели, но они только описывают увиденное, рассказывают о сне, проектируют будущие миры. Авторы утопии (а это, кроме вышеуказанных, Фрэнсис Бэкон (1561-1626) «Новая Атлантида», Луи Себастьен Мерсье (1740-1814) «2440 год», Этьенн Кабе (1788–1856) «Путешествие в Икарию», Эдуард Беллами (1850-1898) «Оглядываясь назад» и многие другие) последовательно уходят от "персонификации" идеалистического повествования, сознавая, что это обернется относительной реализацией утопии, и, как следствие, ее саморазрушением. Первые же попытки заглянуть в душу жителей утопии добавили к жанру приставку "анти". Параллельно с развитием жанра утопии в литературе начали формироваться антиутопические тенденции, отражающие тревогу писателей по поводу тех пагубных, непредвиденных последствий, к которым может привести построение общества будущего. И хотя антиутопия сравнительно молодая отрасль научной фантастики, ее исторические корни следует искать в социальной сатире XVIII века.
***
Первым антиутопическим опытом в мировой литературе принято считать «Путешествия Лемюэля Гулливера» великого английского сатирика Джонатана Свифта (1667-1745). Роман этот представляет собой социальную сатиру на современную Свифту действительность. Полный смелых и гневных намеков на преступления и пороки правящих верхов и всего общества, он построен как философско-фантастический эксперимент, где герой посещает вымышленные страны и, описывая уклад жизни на них, обличает положение дел в его родной Англии. В последней части романа Свифт переносит своего героя на остров благородных гуигнгнмов, в лице которых он хотел изобразить представителей идеального общественного строя, достигших физического и духовного совершенства. Но честь создания подобной утопии Свифт отдает отнюдь не людям, гуигнгнмы — это лошади, внешне точно такие же как и в Англии, но наделенные здравым рассудком и мудростью. Как это ни парадоксально, но лошадям удалось устроить свою республику куда лучше, чем людям любой из стран, известных Гулливеру. В своих предыдущих путешествиях Гулливер сопоставлял увиденные страны с Англией, утопию Гуигнгнмов он противопоставляет. Но почему же все-таки лошади, а не люди?
Ответы на этот вопрос по видимому кроются в описании еху, существ, живущих по соседству с гуигнгнмами. Эти гнусные, вонючие и злобные животные вызывают у Гулливера отвращение, и тем не менее он вынужден признать свое внешнее сходство с ними: «Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека». Предание острова гласит, что «двое еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из за моря. <…> В конце концов они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их прародителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли». Люди, с которыми произошла "эволюция наоборот", одичали и лишились Света Разума, но сохранили черты, присущие человеческой природе, и на это Свифт делает особый акцент. Еху умеют на свой лад не хуже придворных интриганов пресмыкаться перед власть имущими и обливать грязью тех, кто впал в немилость. Еху ненавидят друг друга и постоянно затевают между собой побоища, подобно тому, как люди устраивают между собой войны. Еху собирают и берегут цветные камешки, так же как люди трясутся над своим богатством, кроме того, еху прожорливы, праздны, лицемерны и эгоистичны, из всех животных они «труднее всего поддаются воспитанию и обучению». Описывая еху, Свифт окончательно разделывается с ренессансным представлением о человеке как о "венце творения". Несовершенство человеческой природы никогда не позволит людям создать идеальное мироустройство. Об этом справедливо сказал Артур Шопенгауэр: «Человек в сущности есть дикое ужасное животное, …когда и где спадают замки и цепи законного порядка и вводится анархия, там обнаруживается, что он такое».
Итак, в отличие от своих предшественников, Свифт населяет свою утопию по существу фантастическими персонажами — разумными лошадьми. В языке гуигнгнмов нет слов ложь и обман, они не знают, что такое власть, правительство, война, у них нет даже законов, так как «природа и разум являются достаточными руководителями разумных существ», дружба и доброжелательность — их главные добродетели. В связи с тем, что в их жизни происходит мало событий, история острова хранится в воспоминаниях. В поэзии гуигнгнмов (как в утопиях Платона и Кампанеллы) воспевается «изображение дружбы или восхваление победителей на бегах». Физически они очень крепки и не знают, что такое врачи. Дома гугнгнмов просты и удобны, впрочем, так же, как и вся их цивилизация.
Но не следует забывать об ироничности всего повествования Свифта и приписывать ему полное согласие с уныло-аскетическими принципами жизни лошадей-утопийцев. Они не знают ни радости любви, ни родительской нежности, не интересуются никакими "проблемами" и не понимают шуток. Дружба для них не более чем этическая условность, а жизнь и смерть не более чем обычные явления. Умирают они «словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни». Когда Гулливер, покидая остров, почтительно целует копыто своего хозяина, принимая это за великую милость для своей жалкой двуногой особы, Свифт смеется над ним, но это горький смех. Гуигнгнмы, видя в Гулливере опасность для своей безмятежной цивилизации, заставляют его покинуть остров, мысль же о возвращении в мир порочных "еху" для Гулливера невыносима. Он остается один в этом мире, навсегда сохранив память о "лошадином рае".
Свифт предоставляет горькую альтернативу — выбор между утопией скучных, но благородных лошадей и безумным, не поддающимся логике, миром человеческих отношений. Но если автор отрицает и то, и другое, то почему его герой так решительно выбирает первое? Гулливер — это условный "средний" человек, не злой и не глупый, не богатый и не бедный, в общем типичный представитель homo sapiens. И так же как все люди он упрямо стремится к идеалу, не взирая на то, что все утопии безумно скучны. В мире, в котором все правильно, благостно и нет никаких проблем — в таком мире жить, оказывается, неинтересно. «История, — говорит Вольтер — только тогда и нравится, когда представляет собою трагедию, которая надоедает, если не оживляют ее страсти, злодейства и великие невзгоды». А людям надо, чтобы им было интересно, чтобы были страсти и невзгоды; мы любим мечтать о покое и гармонии, но никогда мы не примем их в своей жизни, никогда не примем утопию, о которой так трепетно рассуждаем. Пусть ее примут лошади, кто угодно, может они будут в ней счастливы, а людям надо другое, им надо то, от чего они бегут. «Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие только то, что не нужно», — А. П. Чехов.
Таким образом, Свифт, в рамках критики социального устройства Европы, подвергает сатире и идеальное устройство утопии. Теперь это уже не проект мироустройства, не цель достойная стремления. Это утопия со знаком "минус" — антиутопия. Назначение утопии состоит прежде всего в том, чтобы указать миру путь к совершенству, задача антиутопии — предупредить мир об опасностях, которые ждут его на этом пути, это умение видеть сквозь время, а Свифт, как ни кто другой, умел видеть не только сквозь время, но и сквозь горизонты.
Факт. В «Путешествиях Гулливера» есть одно место, от которого астрономы последующих веков приходили в шок. Дело в том, что безумные свифтовские академики с летающего острова Лапута среди всего прочего «открыли две маленькие звезды или спутника, обращающихся вокруг Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй - в течение двадцати одного с половиной часа»... Дело в том, что спутники Марса были открыты американским астрономом Асафом Холлом лишь спустя полтора века после Свифта! Да, с расстояниями великий писатель несколько промахнулся (для Фобоса - в два раза, для Деймоса - в полтора), но периоды обращения обоих спутников предсказал поразительно: абсолютная ошибка составила, соответственно, 25 и 30 процентов. Не говоря уж о такой мелочи, как сама догадка относительно двух спутников, о которых тогдашние астрономы и не подозревали.
Но люди как всегда пренебрегли пророчеством, уже к переизданию «Гулливера» Свифт писал: «Вот уже шесть месяцев прошло со времени появления моей книги, — жаловался Гулливер, — а я не только не вижу конца всевозможных злоупотреблений и пороков, <…> но и не слыхал, чтобы моя книга произвела хотя бы одно действие, соответствующее моим намерениям». Парадоксально и то, как сложилась судьба этой книги, наряду с «Дон Кихотом» Сервантеса и «Робинзоном Крузо» Дефо, она стала по преимуществу книгой для детского чтения, — ироническая шутка литературной славы? Очень может быть, но… если просто предположить, что кто-то очень ловко скрыл поднимаемые Свифтом проблемы под штампом детской книжки? В общем-то оружие поэффективнее любой цензуры и травли. Книга остается, а интерес к ней исчезает. Нет общественного интереса — нет проблемы. Есть о чем задуматься.
***
Итак, Свифт заложил основы антиутопии, но этот жанр оставался прямо зависим от своей противоположности — утопии, оба направления продолжали развиваться параллельно. Так в русской литературе вслед за декабристскими утопиями появляются произведения, в которых звучат глубокие сомнения относительно того, что человечество движется к абсолютной гармонии. Подобные настроения звучат в стихотворении Евгения Баратынского (1800-1844) «Последняя смерть». Если утописты, как правило, ограничивались созерцанием "лучших из миров", то Баратынского волнует, что станет с миром и человеком дальше, приведет ли удовлетворение всех материальных потребностей к духовному совершенству. Увы, час торжества плоти становится часом гибели духа. Человек достиг всего, и движение жизни прекратилось. Остановилась мысль, угасли желания, в душах воцарилось полное равнодушие к миру:
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.
Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.
В финале стихотворения Баратынский рисует апокалиптическую картину "последней смерти", которая ожидает землю вслед за приходом золотого века. В этих стихах, может быть, впервые в русской литературе идея земной благодати получает не оптимистическое, а трагическое освещение.
Утопическое мышление характерно для писателей революционного склада, в центре их внимания всегда находится поиск новой модели общества, государства. Антиутопические произведения, как правило, выходят из-под пера авторов, для которых объектом художественного исследования стала человеческая душа, непредсказуемая, неповторимая, душа, благодаря которой рушится первопринцип любой утопии. Такие произведения зачастую полемически направлены против утопий, становятся их антитезой. Как скрытая полемика с четвертым сном Веры Павловны из романа Н. Г. Чернышевского (1828–1889) «Что делать?», звучит четвертый сон Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского (1821–1881), в котором изображено, как эгоистичные, властолюбивые, зараженные "трихинами" индивидуализма люди, присвоившие себе "равное право" убивать, грабить, жечь, ведут мир к катастрофе. Глубокий знаток человеческой души, Достоевский прекрасно понимал ее несовершенство и не верил в то, что «социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным». Герой другого романа Достоевского - Шигалев «предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». «Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может». Так насильственное утверждение земного рая несет в себе жестокую диктатуру и рабство. Утопия искажается, она становится страшной и циничной. Вместо неба над миром нависает серая солдатская шинель, по мере реализации утопия превращается в свою противоположность.
Неслучайно именно в XX веке, в эпоху жестоких экспериментов по реализации утопических проектов, антиутопия окончательно оформляется как самостоятельный литературный жанр (произведения Евгения Замятина, Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла, Рэя Брэдбери, Герберта Уэллса и братьев Стругацких). «Антиутопия, или перевернутая утопия, — пишет английский исследователь Ч. Уэлш, — была в XIX веке незначительным обрамлением утопической продукции. Сегодня она стала доминирующим типом, если уже не сделалась статистически преобладающей». Фантастический мир будущего, изображенный в антиутопии, своим рациональным построением напоминает мир утопий. Но выведенный в утопических сочинениях в качестве идеала, в антиутопии, описанный как идеал осуществленный на практике, этот мир предстает как глубоко трагический. Если утописты наивно полагали, что "счастье быть как все" и есть истинная свобода, то мироустройство, воссозданное в антиутопиях, прямо опирается на положение Карла Поппера: «Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку».
Факт. Выставка «Утопия: Поиски идеального общества в западном мире», прошедшая в конце 2000 года в Нью-Йоркской общественной библиотеке, дает представление о том, как на протяжении многих столетий люди западной культуры пытались представить себе "рай на земле". На выставке — пятьсот экспонатов, расположенных в хронологическом порядке. В их числе книги, картины, гравюры, карты и фотографии из коллекций Нью-Йоркской и Национальной Французской библиотек. Все это размещено в четырех галереях, первая из которых, под названием «Начала: античные, библейские и средневековые традиции», исследует происхождение утопических идей и ранние описания "лучших из миров". Здесь помимо многочисленных изображений садов Эдема, представлены уникальный латинский текст «Метаморфоз» Овидия, «Апокалипсис» XIII века и письмо Христофора Колумба королю Фердинанду о далекой сказочной земле. Следующий отдел — «Другие миры» — открывается знаменитой «Утопией» Томаса Мора, произведениями Вольтера, Свифта, Беллами и Хаксли. Самые убедительные доказательства того, что революция и утопия — понятия неразделимые, сосредоточены в третьем зале выставки с простым названием «Утопии в истории». Чего стоит один постреволюционный календарь французов и их же метрическая система. Закрывает выставку раздел «Мечты и кошмары», предметом исследования которого стали утопия и антиутопия XX века, где фотографии нацистских концлагерей и многие другие доказательства осуществимости утопий. «Наша задача — показать, что идеи о прекрасных мирах и совершенных обществах волновали человечество с древних времен. И волнуют по сей день», — заявляет научный куратор Нью-Йоркской общественной библиотеки Холланд Госс.
Антиутопия изображает "дивный, новый мир" изнутри, с позиции отдельного человека, живущего в нем. Вот в этом-то человеке и пробуждаются в определенный момент естественные человеческие чувства, несовместимые с породившей его социальной системой, построенной на запретах, ограничениях, на полной самоотдаче личности интересам государства. Так возникает конфликт между человеческой личностью и бесчеловечным, бездушно выверенным общественным укладом, конфликт, резко противопоставляющий антиутопию бесконфликтной, описательной утопии.
***
Разговор об антиутопиях XX века, хотелось бы начать с романа «О дивный новый мир» (1932 год) английского писателя Олдоса Хаксли (1894-1963). Это связано с тем, что, во-первых, название его произведения (естественно в кавычках) по существу стало синонимом жанра, во-вторых, Хаксли сохранил многие черты антиутопии Свифта, развернув их перед читателем XX века "во всей красе".
Подобно Свифту, Хаксли населил свою утопию не людьми, тем самым избавив ее от угрозы непредсказуемой человеческой души. Это вариант государства, где стабильность и всеобщее счастье достигается отнюдь не дубинками и расстрелами. О подобной системе утопического устройства пишет сам автор к переизданию «О дивного нового мира» в 1946 году: «В тоталитарном государстве, по-настоящему эффективном, всемогущая когорта политических боссов и подчиненная им армия администраторов будут править населением, состоящим из рабов, которых не надобно принуждать, ибо они любят свое рабство».
Еще в первом романе Хаксли «Желтый Кром» (1921 год), один из героев рассуждает о будущем "разумном государстве". В этих рассуждениях возникает один из основных мотивов творчества Хаксли — скептическое отношение к научно-техническому прогрессу и пессимистический взгляд на будущее человечества. Задуманный в качестве пародии на утопию Уэлсса «Люди как боги», «О дивный новый мир» превратился в трагическое видение будущего, своего рода манифест неверия в социальный и нравственный прогресс человечества.
Дело в том, что в 631-м году эры Форда (в 2494-м от рождества Христова) "венец творения" был поставлен на конвейер. Люди, все до одного, перестали рождаться, они стали производиться, программироваться и распределяться в зависимости от назначения. Сотни, тысячи тождественных близнецов (теперь мы назовем их клонами) отправились на предприятия, где встали за тождественные станки. Цели утопии, «общность, одинаковость, стабильность», были наконец достигнуты. Мировое Государство вычеркнуло историю и литературу за ненадобностью. Зачем вспоминать тот старый несовершенный мир, от которого берет дрожь, где семья, эта — «кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением стиснутых в ней жизней, смердящая душевными переживаниями»? Зачем вспоминать мир, где любовь и чувства, от которых помешательства и самоубийства, где нестабильность, и вот уже «большая воронка, груда щебня, куски мяса, комки слизи, нога в солдатском башмаке летит по воздуху и — шлеп! — приземляется среди ярко красных гераней» — девятилетняя война, ведшая к полному разрушению? Нет, теперь все иначе. Как символы стабильности возвышаются над Мировым государством Инкубатории, где ни на секунду не останавливается конвейер, и на "свет Фордов" выходят… "недолюдьми" называет их один из героев романа, пожалуй, это будет самое точное определение. Они идеальны в своей одинаковости и бездушности, в них никогда не взыграет страсть и их личные интересы никогда не пересекутся с интересами общества. Население, разделившись на биологические касты альф, бет, гамм и дельт, уже не разделится на имущественные классы. В Младопитомнике программируют их рефлексы, гипнопедия определяет их мышление, детские игры вводят в мир холодных отношений между полами. «Каждый принадлежит всем остальным» — гласит одна из гипнопедических поговорок. Не может быть и речи о любви, есть лишь разумное и беспрепятственное удовлетворение естественных порывов. Их бездушность доходит до абсурда: они восхищаются тем, что после смерти из их тел делают удобрения!
Они рабы, рабы своего рождения и воспитания, и они бесконечно любят свое рабство. Мировое государство, придуманное Хаксли, на первый взгляд благополучнейшее общество, Рай на земле. Здесь нет нищеты, болезней, старения, войн, разрушительных страстей и даже страха смерти, так как людей с детства готовят принимать смерть как естественный конец. А если и возникают у них мелкие огорчения, они моментально снимаются соответствующей дозой легализированного и обязательного наркотика — сомой. «Сомы грамм и нету драм». Мировое Государство — это единый слаженный механизм, состоящий из сотен тысяч, более или менее значимых, шестеренок, не допускающих ошибки в своей работе. Но это механизм для механизма, он никуда не ведет, его работа бесцельна. Перед нами совершенно бессмысленная и, по сути, никому не нужная утопия. И глубоко трагична судьба единственно живого человека, случайно оказавшегося в этом "дивном новом мире".
Джон вырос в индейской резервации, о Мировом Государстве он знал лишь по рассказам матери. В мыслях он уносился за пределы того мерзкого и душного мирка, где его, чужака, ненавидели и гнали. Он мечтал о прекрасном и совершенном мире, что за электрическим забором, мире, где люди летают по воздуху, живут в чистоте и порядке, где нет отвратительного пьянства и насилия, где люди по настоящему любят. Джон мечтал о дивном новом мире, который воспел Шекспир. Но страшной трагедией оказалась для него встреча со своей мечтой. Утопия Джона на практике оказалась антиутопией, где его приняли как чужака, экзотического зверя, назвали мистером Дикарем. Подобно Гулливеру Дикарь оказывается одним в этом идеально уродливом мире. Ленайна, «О чистая и девственная скромность!..», похожа на красивую бездушную куклу, она не в состоянии понять чувств Джона и отдается ему словно "кусок мяса". Бернард, которого Джон считает единственным другом, ищет в своем подопечном лишь практическую выгоду. Он бунтарь в начале романа, но теперь уважение общества примирило его с порядком вещей, прежде таким несправедливым. Гельмгольц внимательно слушает Джона, восхищается стихами Шекспира, но и он не понимает человеческих страстей, смеется над трагедией Джульетты: «отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки непристойная ситуация, в высшей степени комичная». Несмотря на свою неудовлетворенность покоем и стабильностью, Гельмгольц мыслит как всякий житель Мирового Государства, он тоже запрограммирован гипнопедией, он тоже клон и трагедии человеческих душ чужды ему. «Потому что мир наш — уже не мир «Отелло». Как для "фордов" необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы; <…> они так сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам сома. А вы ее выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы. Свободы! — Мустафа рассмеялся. — Вы думали, дельты понимают, что такое свобода! А теперь надеетесь, что они поймут «Отелло»! Милый вы мой мальчик!».
Нет никого, лишь неторопливо крутятся железные шестеренки, выполняя свою бессмысленную работу. Всеобщее благо было достигнуто, погребя под собой все живое. Изменить теперь ничего нельзя, никто теперь не захочет ничего менять, все счастливы «ибо они любят свое рабство». Финал романа глубоко трагичен и безнадежен. Джон не смог жить в этом "дивном новом мире", ему оставался единственный возможный выход, выход в никуда… «Медленно медленно, подобно двум неторопливым стрелкам компаса, ступни поворачиваются вправо — с севера на северо-восток, восток, юго-восток, юг, остановились, повисели и так же неспешно начали обратный поворот. Юг, юго-восток, восток...»
***
Другой яркий пример антиутопии XX века — роман Евгения Замятина (1884-1937) «Мы», написанный в 1920 году. Этот роман замечателен тем, что автор уже в те годы сумел предсказать глобальные катастрофы XX века. Кроме того, это было первое произведение, в котором черты жанра воплотились со всей определенностью. Роман не был опубликован в свое время в советской печати, где был воспринят как пародия на будущее коммунистическое общество. Однако объективно содержание романа было направлено против опасности, которая подстерегает любое общество, в котором произошло смещение ценностей и значение личности низведено до уровня все той же шестеренки в государственном механизме.
Уже на первых страницах романа Замятин создает модель идеального, с точки зрения утопистов, государства, где найдена долгожданная гармония общественного и личного, где все граждане, слившись в единое МЫ, обрели наконец желаемое счастье. Во всяком случае таким оно предстает в восприятии повествователя — строителя Интеграла, математика Д-503. Это геометрически совершенный мир, в нем нет места ошибкам и неточностям. Единое Государство — «это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая - мудрейшая из линий...» Идеалами нового мира становятся образы числа, машины, таблицы умножения. Речь идёт не столько о техническом совершенстве мира будущего, подобно прежней утопической традиции, но о его неприродном, неестественном, механическом происхождении. Этот мотив перекликается с образом Зелёной Стены, уточняется им. Стена превращает государство в мировой Город, где нет парков, садов, деревьев, где даже цветочная пыльца, трава и птицы, проникающие через брешь, образовавшуюся в стене, воспринимаются как нечто "чужое", грозящее разладом в отношениях человека с его искусственной средой обитания.
Отметим, что в Едином Государстве живут не люди, а "нумера", лишенные имен, облаченные в "юнифы" (то есть униформу). Внешне схожие, они ничем не отличаются друг от друга и внутренне. Неслучайно с такой гордостью восклицает герой, восхищаясь прозрачностью жилищ: «Нам нечего скрывать друг от друга». Одинаковостью, механичностью отличается вся их жизнедеятельность, предписанная Часовой Скрижалью. «Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...» Прямолинейность, рационализм, механичность жизнеустройства Единого Государства объясняют, почему в качестве объекта поклонения "нумера" выбирают фигуру Тэйлора.
Факт. Фредерик Уинслоу Тэйлор (1856-1915) — выдающийся американский инженер-изобретатель, основоположник так называемой научной организации труда — разработал систему организации и нормирования труда и управления производством, подбора, расстановки и оплаты рабочей силы, направленную на существенное повышение производительности и интенсивности труда. Организация труда, по Тэйлору, основывается на сугубо рациональном подходе к человеку, на максимальном использовании его сил и способностей в интересах производства. Тэйлоризм, система глубоко научная и во многом прогрессивная, тем не менее уравнивает деятельность человека и работу механизмов.
Таким образом, идея всеобщего равенства, центральная идея любой утопии, оборачивается в антиутопии всеобщей одинаковостью и усредненностью. Идея гармонии личного и общего заменяется идеей абсолютной подчиненности государству всех сфер человеческой жизни. Малейшее же проявление свободы, индивидуальности считается ошибкой, добровольным отказом от счастья, преступлением, поэтому казнь становится праздником — ошибка исправлена! Лишив себя свободы, "нумера" нашли свой потеряный Рай. «Древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья, третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье...» Восхищаясь несвободой, герой с недоумением и иронией размышляет о свободных политических выборах, о тайном голосовании: «Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это». Но его ирония оборачивается авторским сарказмом: абсурдны "выборы" без права выбора, абсурдно общество, которое предпочло свободе механическое единомыслие. Но имея дело с живыми людьми, Единое Государство не может опираться только на рабскую покорность. Залог стабильности такой социальной системы — в способности граждан "воспламеняться" верой и любовью к государству. Счастье "нумеров" уродливо, но ощущение счастья должно быть истинным.
Избрав форму записок, которые их автор, житель Единого Государства, адресует своим "диким предкам", Замятин превращает традиционное для утопии статическое описание в диалог — диалог "будущего с прошлым" — естественного мира с миром искусственно созданным. Одним из предметов этого диалога становится судьба искусства, где утверждена обязательность оптимистического пафоса всего творчества — сочинения в Едином Государстве должны посвящаться только его красоте и величию. Но создавая своеобразный панегирик "новому миру" Д-503 неожиданно для самого себя пишет памфлет. Чувства живого человека и частные подробности превращают утопию Д-503 в антиутопию. Но пародируются не только частности, не только характер искусства в "новом мире" — пародируется вообще вся система представлений, внутри которой не кажется абсурдным сопоставление палача с Первосвященником, ангелов-хранителей — со шпионами, жертвоприношение Богу — с доносом; люди, утратившие способность различать добро и зло, истину и ложь...
Именно таким предстает перед читателем Д-503 в начале романа. Он враг индивидуальности, неодинаковости. Он живет по законам Скрижали и ненавидит всякое проявление чувства как отступление от геометрической прямой своего Государства. «Я чувствую себя. — пишет Д-503 — Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь». И тем не менее, в отличие от жителей утопии Свифта или Хаксли, Д-503 — человек, и человеческие чувства, заложенные в него природой, вырываются из плена идеологии. Его, человека, спасает любовь, страсть и желание быть рядом с прекрасной и вольной духом женщиной. Он узнает, что, кроме любви к государству, есть другая любовь, что есть душа, что она реальна и это не болезнь. И математика, государство, система — все оторвалось, закружилось, поплыло… Человеческие ценности встали на свои места, перевернув все в жизни Д-503. Верный раб вдруг разлюбил свое рабство. Но, когда он понял, что не может быть последней революции как не может быть последнего числа, что мир должен двигаться вперед, стремиться сквозь бесконечность… «В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир…» Утопия гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. Ее геометрически выверенный механизм беспощаден, точен и умен. Он не позволит победить себя, не позволит лишить блаженного счастья свои шестеренки, иначе утопия уже не утопия. «Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи...» Д-503 хирургически лишают фантазии — души, отныне он, как и все остальные граждане Единого Государства, перестает быть человеком, становится зомби, идеальным жителем идеального государства. Но остается надежда: I-330 не сдается до самого конца, Д-503 прооперирован насильно, О-90 уходит за Зеленую Стену, чтобы родить свободного человека, а не государственного "нумера"; туда же, в пролом стены, устремляются еще «с полсотни громких, веселых, крепкозубых»…
***
Такой надежды не остается в романе Джорджа Оруэлла (1903-1950) «1984», пожалуй самой мрачной в своей реалистичности антиутопии ХХ века. Любопытно, что заглавие романа, вызывающего по сей день столь разноречивые отклики, было выбрано Оруэллом совершенно случайно. Рукопись, законченная осенью 1948 года, оставалась безымянной. На последней странице стояла дата, когда Оруэлл завершил авторскую правку. Он переставил в этой дате две последние цифры. Через полтора года он умер.
В государстве Океания, о котором повествует Оруэлл, ни один шаг, ни одно слово его подданных, ни что не ускользает от недремлющего ока Большого Брата, и дело здесь не в страхе перед бунтом, бунт невозможен и это всем очевидно как дважды два… Высшая цель режима состоит в том, чтобы никаких отклонений от раз и навсегда установленного канона не допустить в сфере личностной, где такие отклонения, при всем совершенстве слежки и кары, все-таки еще возможны. Человек должен быть верным и убежденным рабом режима. Преступна сама мысль, (не обязательно высказанная) ставящая под сомнение ничем не ограниченную правоту государства, преступно вообще думать о государстве, в него надо лишь слепо верить и фанатично выполнять все его заповеди. Тоталитарная идея призвана поработить не просто самого человека, но главное — его душу, вытравить из нее все ненужное, все мешающее слепо верить. Лишь при этом условии будет достигнута цель, которую она признает конечной. У Оруэлла это практически реальность и господствует в ней сила, безразличная к рядовой человеческой судьбе. Граждане Океании должны знать лишь обязанности, а не права, и первой обязанностью является беспредельная преданность режиму: не из страха, а из веры, ставшей второй натурой. Государство всегда вело войну с Евразией во имя общего блага, Голдстейн сбрасывает на Океанию ракеты, победа близка, в этом нельзя сомневаться, в это надо слепо верить. Океания не знает разрухи и голода, ее жители счастливы, дважды два — пять, в этом нельзя сомневаться, в это надо слепо верить. Парадокс в том, что подобной веры добиваются насилием, исключительно насилием, для которого не существует никаких ограничений.
Насилие способно превратить человека не просто в раба, а во всецело убежденного сторонника системы. Тайна тоталитаризма виделась Оруэллу в умении достигать этого эффекта через страх, через комнату сто один, через неусыпный надзор телекранов.
Факт. Летом этого года полиция американского города Тампа запустила полнофункциональную систему тотального сканирования случайных прохожих на предмет сверки полученных цифровых портретов с базой данных разыскиваемых преступников. Тампийские полицейские уже давно вынашивали этот проект. В начале февраля, во время XXXV чемпионата США по американскому футболу, проходившего в этом городке, при входе на трибуны стадиона были установлены мини-камеры, сканировавшие болельщиков. Затем цифровые изображения сверялись с базой данных преступников, разыскиваемых полицией или ФБР. Тогда система удаленного контроля была предоставлена полиции лишь на две недели для тестирования. Спустя несколько дней полиция округа Колумбия сообщила, что хочет установить в Вашингтоне аналогичную систему всеобщего фотографирования для отлова тех, кто превышет скорость. «За этим — будущее полицейского надзора на дорогах. Камеры будут стоять где угодно». Полиция весьма довольна нововведением, и заявляет, что "честным гражданам" бояться совершенно нечего, им не будет ничего плохого от того, что их сфотографируют. Впрочем, честным гражданам Океании тоже было абсолютно нечего бояться.
Постепенно поглащая все остальные чувства человека, страх ломает нравственный хребет и заставляет его глушить в себе все, кроме самосохранения. Человека уродуют страхом и он готов поверить во что угодно, поверить искренне, что дважды два — пять. Теперь нашли способ построить мир достойный человека, «он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим — все». Государству надо только способствовать тому, чтобы этот процесс протекал быстро и необратимо. Для этого и существует режим — с его исключительно мощным аппаратом подавления, с полицией мысли и полицией нравов, с "новоязом", разрушающим язык, чтобы стала невозможной мысль, с обязательной для всех доктриной "подвижного прошлого", согласно которой память преступна, когда она верна истине, а минувшего не существует, за вычетом того, каким оно сконструировано на данный момент. Государство, словно Прокруст, укладывает историю на ложе, подгоняя ее под свои цели. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим: кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Задача не в том, чтобы добить противников, ибо они мнимы. Она в том, чтобы исчезла возможность несогласия, пусть сугубо теоретическая и эфемерная. Даже как отвлеченная концепция всякая индивидуальность должна исчезнуть навеки.
Антиутопия «1984» возможно более других была близка к истине, но самое страшное в том, что Оруэлл не столько предсказывал, сколько описывал.
***
В заключение хотелось бы рассказать еще об одной антиутопии, о фильме режиссера Терри Гиллиама «Бразилия», снятого по сценарию английского драматурга Тома Стоппарда все в том же 84-м году. В отличие от коммунистических утопий, здесь показано либеральное общество ближайшего будущего, где царит гротескное сочетание полицейского террора и буржуазных "свобод". Все общество живет в страхе перед "террористами", которые постоянно нарушают благополучие тоталитарно-либерального строя. Борьбой с угрозой стабильности — "террористами", праведной борьбой, оправдываются пытки и насилие над гражданами.
Сюжет фильма начинается с того, что из-за ошибки в компьютере, вместо террориста Таттла был арестован обычный гражданин Баттл. Чиновник Департамента Информации получает задание исправить ошибку. Но выясняется, что Баттл уже умер под пытками. Совершенство системы строится на ее непогрешимости, Департамент Информации, «заботясь» о безопасности и благополучии своих граждан, совершает грубую ошибку, повлекшую за собой сметрь честного гражданина. Но что хуже всего, этой ошибке есть свидетель, девушка, соседка Баттла. Но с этим допущением справиться гораздо легче, достаточно объявить девушку террористкой и уничтожить. Но правильные очертания утопии вновь нарушает непредсказуемая человеческая душа… Чиновник, занимающийся этим вопросом, влюбляется в девушку, узнает в ней ту, что ангелом являлась ему во снах. И маленький человек вдруг разворачивается против безжалостной системы, чтобы спасти свою возлюбленную. Но система сильна и беспощадна, следуют арест, абсурдные обвинения, допросы и пытки. В конце концов галлюцинации и видения жертвы сливаются с реальностью, и он теряет рассудок, окончательно перебираясь из жестокого мира либеральной утопии в мир фантазии. «Мы потеряли его» - говорит палач в финальной сцене картины.
«Бразилия» стала великолепным разоблачением буржуазно-капиталистической действительности. В отличие от "1984" Оруэлла, где в страшных тонах обрисовывается тоталитарно-социалистический мир, авторы фильма показали страшную сторону либерализма. Все выходящее за рамки технократической системы, определяющей нормы человеческого поведения до мельчайших подробностей, воспринимается в обществе "Бразилии" как "терроризм". Так, главный герой фильма сталкивается с настоящим террористом, Таттлом, который оказывается лишь слесарем-сантехником, практикующим без лицензии и враждующим с всесильной монополией компании "Сэнтрал Сервис". Более того, часто его "терроризм" заключается в том, что он вообще не берет денег за свою услугу, бросая вызов основному либеральному закону - закону денег. Так в фильме четко показано, как капиталистическая реальность не только переводит на периферию все те силы и человеческие типы, которые не приемлют догм капитализма, но и объявляет эти силы "врагами общества", "террористами"…
Другая важная линия "Бразилии", как и в «1984», - это сны главного героя, в которых возникают классические сюжеты нордической мифологии: прекрасная беловолосая Дама, хтонические монстры, вырастающие из земли, блестящие доспехи и полеты в воздухе. Эта героическая реальность служит альтернативой циничному и жестокому миру дня. Фактически сюжет фильма — эта борьба волшебного нордического сна и безжалостной технократической утопии.
***
Вместо заключения хотелось бы привести слова И. Фишля (к сожалению данных о нем я не обнаружил): «Утопичной в особенности является мечта о райском счастье в гармоничном обществе. Кто хочет достигнуть этого, должен был бы устранить згоизм, зависть и злорадство, жажду власти и страсть к спорам и, сверх того, еще все извращенные черты в человеке. Как же хотят изменить природу человека, не уничтожив ее?»
|